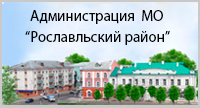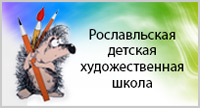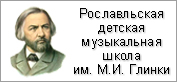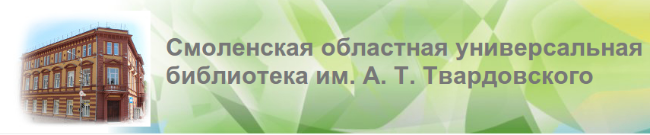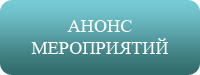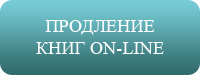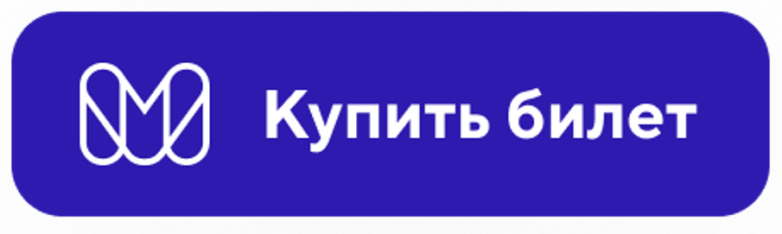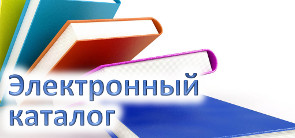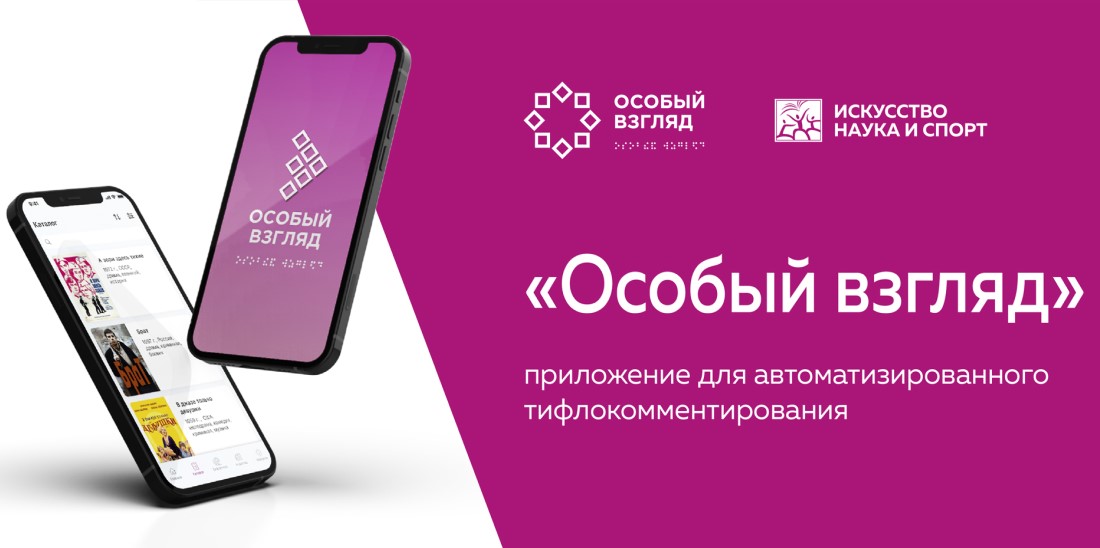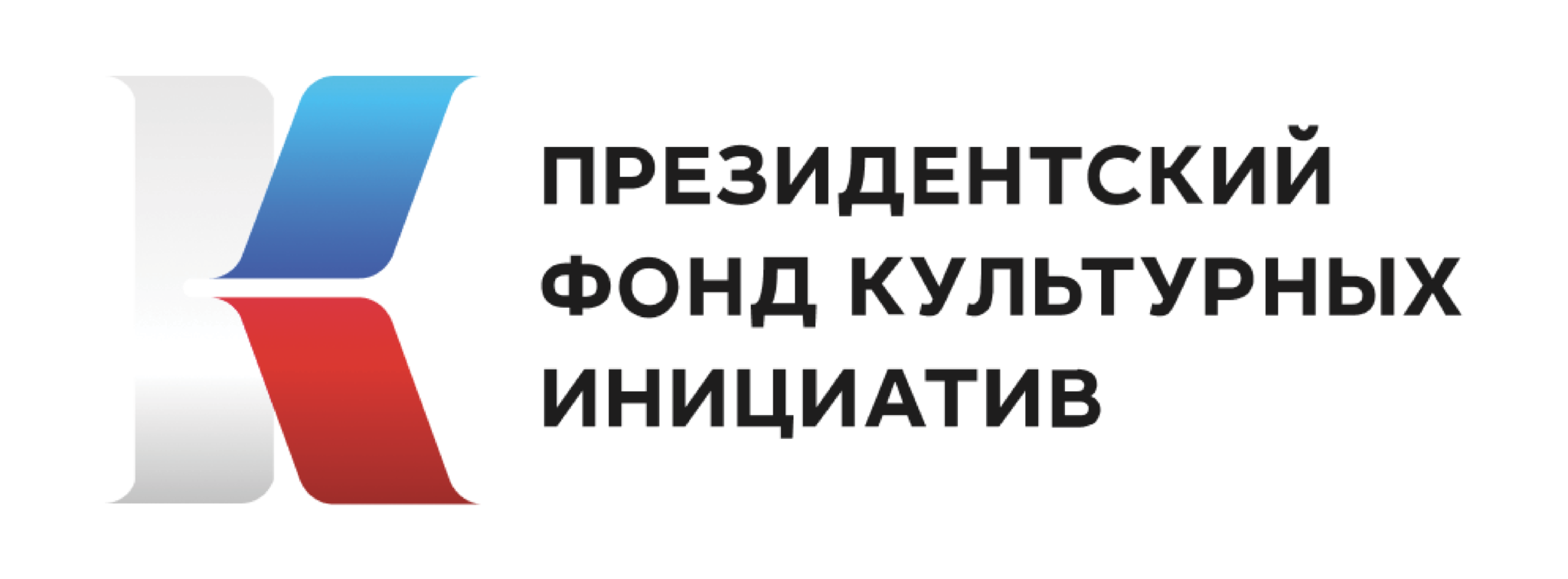Интервал между буквами (Кернинг):
Отрывок из статьи
О тяжелых военных годах вспоминает в статье «Радость встречи – горечь разлуки», Евгения Рыленкова, жена поэта:
«В памяти, как в заветной кладовой, хранятся далекие дни и вечера, и чем дальше, тем ближе кажется пережитое и прожитое.
Человеческая память... Удивительное свойство души человека.
Иногда и хотелось бы забыть какие-то не особенно приятные случаи и поступки, но память не дает забыть все то, что тревожит душу.
Память, как и совесть, всегда тревожит. Дни веселья, дни радости вспоминаешь с близкими, друзьями, а вот дни печали, горе - в одиночку или в редкие минуты с очень близким человеком. Но такое бывает редко. Поэтому и несешь в памяти весь груз, всю тяжесть тяжелого пережитого...
А горькая година приближалась к нам, ее поступь была все слышнее, но надежда не покидала - авось задержится. Не задержалась. Сломала нашу жизнь.
К концу 1930-х годов, - началу сороковых обстановка на западе накалилась до красноты, тревога висела в воздухе. И когда после финской незнаменитой войны Коля написал стихотворение «Он с финского фронта вернулся в село» (май 1941 г.), то один очень уважаемый писатель сказал: «Ты что, у нас прочный мир и ни о какой войне не может быть и речи, даже намека».
Вот это стихотворение, его все же напечатали 22 июня 1941 г.
Он с финского фронта вернулся в село,
Встречал его каждый куст,
А вишенье в теплых садах цвело,
А запах земли был густ.
В поле колхозный спешил грузовик,
Покряхтывая тяжело.
И все, от чего на фронте отвык,
В него с тишиной вошло.
Он весь этот мир, что с детства знаком,
Казалось, снова открыл –
С дорогой накатанной, с ветряком,
Раскинувшим тени крыл;
С цепочками пчел, что на запах цветов
Тянутся через гать.
И понял: за это за все готов
Он душу свою отдать.
Какой там покой, когда зажжена
Земля с четырех сторон!
«Совсем возвратился?» — спросит жена.
«В отпуск», — ответит он.
Дело не в прозорливости и обостренном чувстве - это висело в воздухе. И все-таки стало громом среди ясного неба.
23 июня Коля добровольцем явился в военкомат, чтобы его отправили на фронт, хотя он был освобожден по своему здоровью от этой обязанности. Как я уже говорила выше, он работал как одержимый до 2-3 часов ночи и вставал в 6 утра. И так ежедневно - и в будни, и в праздники. И переработался. Он разбудил меня в третьем часу ночи, сказав, что хочет выпить со мной чаю. Выпили, я опять уснула и почувствовала, что и Коля вскоре тоже лег. А в три часа ощутила — что-то падает, машинально протянула руку и ухватила Колю за голову. Он был без сознания. О, эти страшные дни в нервной клинике на Покровке. Коле запретили умственно работать, требовался длительный отдых. И мы вполне могли позволить себе это, но разве ему запретишь думать? Разве это возможно? И все же около двух месяцев на бумаге не было записано ни одной строчки. Я рассказываю об этом только потому, что он не обязан был идти на фронт, но он не мог не пойти и он пошел.
Н. С. Новиков, работавший в эти тревожные дни в военкомате, вспоминал: «Я понимаю, почему пришел Грибачев, он воинственный трибун, а вот почему добровольцем пошел такой мягкий, добрый, мирный человек как Рыленков? Не понимаю».
Для всех началась страшная полоса жизни. Город бомбят ежедневно — ни сна, ни отдыха ночью нет. И в одну из ночей, когда Коля не дежурил в Доме Печати, мы решили выбраться за город и, если не найдем пристанища под крышей, то обойтись и так. Дошли до чудесной деревушки Рай и там устроились в школе. Горожан там уже было полно. Спать расположились на столах, другого более удобного места не нашлось. Хорошо - крыша есть.
Мое место оказалось у окна. Я не могла уснуть, беспокоилась о детях. Добрались ли они до Батюшкова, здоровы ли, как чувствуют себя сестры, особенно Люба - она ведь на костылях.
И вдруг заметила какое-то странное мелькание за городом, что-то вроде темных птиц, и вслед за ними сразу же подымался снизу оранжевый свет. Свет становился все выше и ярче, и все большее пространство охватывалось им.
И тогда до меня дошло - горит город. За семь километров в доме гула самолетов и пожара не было слышно.
Я разбудила Колю, стала тихо ему говорить и тут же услышала недовольные голоса: «Неужели нельзя дать уставшим людям отдохнуть, а помиловаться найти другое место». Мне стало так больно, и я, плача, громко сказала: «Горит город, где уж нам миловаться».
Вот тут поднялся такой вопль, крик, плач! Полная жуть. И я испугалась за жену художника Булочки - они с беременной женой и небольшим сыном тоже были в этом помещении. Я боялась, как бы она от страха не родила здесь. Но, благодарю Бога, все для нее обошлось благополучно, и родила она сына уже в эвакуации. Это произошло в начале июля 1941 года.
Меня не отпускали с работы, а детей я отправила с сестрой Любой, которая после операции ноги была еще на костылях, и другой сестрой 16 лет - и о них я ничего не знала, вестей никаких не было.
В Доме искусств был организован какой-то штаб, и войти туда можно было только по пропускам. И зачем, спрашивается, мне сидеть там, не зная, где дети. Ну и учинила в управлении небольшой скандальчик - отпустили за ненадобностью сидения и даже не дали зарплату - жди.
Ждать я не стала, проводила Колю к поезду, поплакала, но не при нем, а он возьми и вернись, и увидел мое зареванное лицо. Господи, какое у него было лицо - сплошное страдание!
- Родная моя, не плачь, все будет хорошо. Береги себя и детей, а со мной ничего плохого не случится.
Вот так и расстались.
И я поехала искать детей туда, где они должны были быть. Приехав в Вязьму, выяснила, что в тот день все поезда с беженцами пошли на Калугу, а я их направляла в Батюшково. Эта станция — на границе с Московской областью, Гжатский район, теперь Гагаринский. На Москву не пропускали обычных смертных, но усилия мои не пропали даром - мне дали разрешение поехать в Батюшково. Это случилось благодаря Колиной книге стихов «Березовый перелесок» с посвящением мне. Им это показалось важным. Я, измотанная до последней степени, прилегла на голое сиденье скамьи вагона и уснула. Проснулась, едва стало светать, - боялась пропустить свою остановку. Посмотрела в окно - висячий мост. Испугалась - думала, Москва, а оказалось, Вязьма. Поезд вернули - путь впереди был разбомблен.
Побежала к вокзалу, а вокруг тысячная, даже многотысячная толпа беженцев из Белоруссии, Прибалтики и других областей. Тревожно, страшно -найду ли детей. И вот пробираюсь в толпе вслепую, стремлюсь к какому-то месту. Ощущаю - нужно именно туда. Что меня тянет? Знаю: нужно идти туда.
Господи, что же это такое - меня держит за руку мужчина и говорит: «Вам письмо от детей».
Вижу - наш сосед по квартире - Григорьев, агроном. Он раньше отправил свою семью в Сычевку к своему отцу. Спрашиваю: «А откуда у Вас письмо, где Вы видели моих детей?»
- Они у нас, в Сычевке.
Вот так я нашла детей. Что это — интуиция или какое-то чувство ясновидения, ведущее, как вслепую, вперед и куда нужно?
Детей и сестер приютила семья Григорьева, иначе им пришлось бы уехать маршрутом на Калугу и дальше, в Среднюю Азию.
В Сычевку приехала ночью, вернее вечером, но уже нельзя было ходить по территории станции, и пассажиров отвели под присмотром в клуб до утра. Просидела ночь на полу. В эту ночь бомбили железнодорожную станцию, а она рядом, и мысль, что мои дети от станции очень близко и я не могу их защитить, довела меня почти до невменяемости. На рассвете нас выпустили, и я побежала в сторону Вазузы, зная, что дом Григорьевых стоит недалеко от берега. И нашла детей, еще сонных, целыми и здоровыми. От радости плакали сестры, а дети гладили своими ручонками меня и все повторяли: «Ты приехала, ты не потерялась». «Нет, мои дорогие, я не потерялась». А потом все спрашивали об отце: «А папа где - он не потеряется?» «Нет, нет, мои дорогие - папа придет, как только прогонят фашистов».
В Сычевке прожили мы недолго. Ночами выезжали на берег Вазузы, заросший кустарником и высокой травой. Детей укладывали на телеге, двое Григорьевых и двое моих, а сами - около. Бомбили станцию и пути почти ежедневно. Фронт приближался, и мы решили — время уходить, иначе мы можем попасть в плен.
Путь на Вязьму еще был свободен. Недалеко от Новодугино вдоль железной дороги - огромное выжженное пространство с опрокинутыми вагонами: здесь разбомбили поезд - жуткое зрелище. Проводница шепнула: «Садитесь ближе к двери». Народ в вагоне заволновался, а проводница говорит: «Успокойтесь, авось проскочим. Там бомбили днем».
Проскочили и прибыли в Вязьму, а там - Вавилонское столпотворение: народу тьма, бомбят и днем и ночью. Опять мои хождения за разрешением ехать на Москву. Разрешили. Днем нам в уцелевшем доме в стороне от станции выдавали хлеб. Огромная очередь, и тут - налет. Стреляли из пулеметов с небольшой высоты по скоплениям людей. Господи — крики, стоны. Кошмар, ужас! Вырвались. Уехали ночью в Батюшково.
Утром уже приехали на место. Обстановка здесь не такая устрашающая. Устроились у дяди Ивана. Через несколько дней побывала в Гжатске и договорилась о работе с сентября в школе. А пока ходила в колхоз теребить лен, в конце августа и начале сентября (школа не работала) приступили с сестрой к уборке картофеля. Платили нам натурой - первые два дня четвертое ведро, а потом пополам. Заработали мы с Еленой не менее 60 пудов. Урожай был хороший. Потом все пошло прахом. Немцы уничтожили поселок, все сгорело.
Будучи в Батюшкове, я в сентябре 1941 года побывала у Николая Ивановича в деревне Язево Можайского района Московской области, где саперная часть его строила укрепления. Лейтенант Рыленков командовал взводом, строил укрепления, дабы не пропустить врага к Москве. Видела Колин взвод - они просили показать им его жену. В перерыве встретились на насыпи противотанкового рва. Коля стоял, а я присела на корточки около них. Поговорили о детях и обо всем жизненном — есть ли к зиме одежда, обувь и какие запасы сделала к зиме. Я рассказала и про картошку, и про грибы. Одобрили и наказали беречь детей и самой не сдаваться, а уж они постараются не допустить врага в Москву. В основном это были не мальчики, а уже умудренные жизнью сорокалетние и старше. Мне казалось, что в моем лице эти наши защитники видели и свои семьи и через меня мысленно давали совет своим женам. Провела я в Язево двое суток и пережила две бомбежки, больше не могла оставаться - дети были ближе к фронту и я страшно волновалась за них. Обещала приехать еще и привезти грибов — Колина любимая еда: суп ли с грибами, жареные, маринованные - все равно, ел с удовольствием. Правда, предпочитал суп с грибами.
Но увидеться нам тогда не пришлось, и мы потеряли друг друга. Как прошли эти страшные три месяца для нас - лучше не вспоминать, - каждый день угроза попасть под расстрел, каждую ночь бомбежки, а с 19 января - голод и бомбежки - передовая в двух километрах. Жили в землянке, связи с Колей никакой. Наши солдаты и командиры старались от своего пайка что-нибудь прислать детям — то хлеба, то супа в солдатском котелке. А при подготовке к наступлению все семьи из землянок выселили. Мы пошли в деревню Батюшково, где и провели на улице около двух часов и снова возвратились в свою землянку.
В один из таких переходов мы встретили идущий к передовой отряд солдат. Я несла Иру на руках, и вот один из солдат взял у меня Иру на руки, прижал ее к себе, ласково провел по личику и тихо сказал: «Крошечка ты моя, что только тебе достается», - и возвратил Иру мне. Я увидела на его глазах слезы. Ира всегда неохотно шла на руки к чужим, но здесь она внимательно и как- то очень серьезно смотрела на ласкавшего ее солдата. Кто он, жив ли и живы ли его дети, которых он явно вспоминал, глядя на Иру?
Потом нас отправили дальше от передовой в деревню Астафьево Уваровского или Можайского района. Зима, холод, морозы под сорок градусов. В Астафьево нас, три семьи, поселили в пустующем доме, где окна без стекол, заделанные соломой, и лишь на одном окне они уцелели. Но печь - совершенство, и мы ее так много топили, что однажды солдат забрался на печь погреться и уснул. Спал так крепко, что даже не почувствовал, как горячий кирпич посадил ему на ногу волдырь. Мы же грелись на печи только на досках.
Деревня была как бы перевалочным пунктом, и если бы не солдаты и не стирка окровавленных гимнастерок, мы бы, наверное, умерли с голода. За работу нам давали немного хлеба и каких- либо крупяных концентратов. Только один раз я сходила на Уваровку, а это 30 км в один конец, где и получила 10 кг муки, да еще пришел солдат-возчик и тихо мне сказал: «Иди за деревню, нас сейчас обстреливали и убили лошадь, а она молодая и упитанная. Будет еда твоим детям и твоей семье». Мы на больших санях эту лошадь привезли, и она действительно спасла нас. Еще было у нас немного льняного жмыха. Из него пекли что-то вроде преснушек. Это уж был десерт.
В первые же дни, как пришли наши солдаты, я отправила письма в Москву (в Союз писателей), сестре в г. Наманган в Узбекистан, двоюродной сестре Е. Козловой о нашем местонахождении. Первой Коле прислала телеграмму моя сестра Наташа из Намангана: «Женя в Батюшково с детьми».
По этой телеграмме Коля и нашел наев Астафьево в апреле 1942 года. Об этом им написана поэма «Апрель». Она посвящена мне.
Когда он вошел в дом, и я увидела его, все мое мужество, необходимое мне для защиты детей, сестер, вдруг покинуло меня, и я упала бы, если б Коля не успел подхватить меня. Жуткое зрелище представляла тогда наша семья - изможденные дети, желтая, высохшая я, да и сестры не лучше.
На другой день мы с детьми и сестрами уехали из Астафьева. Ехали в открытом грузовике и только Ирочку взяли в кабину. По дороге образовался затор из-за моста (после каждой прошедшей машины его вновь собирали). Вокруг открытое поле и ждут проезда около трехсот машин. Было жутко, когда пролетали немецкие самолеты, но шоферы успокоили меня: «Эти уже отбомбились, летят пустые». Сидеть в машине во время этого стояния было мучительно. Коля в своих сапогах мог ходить, чего мы были лишены. Этими отлучками пользовались солдаты, шоферы - приносили нам сухари и каши в пачках - при Коле не решались давать подаяние. И как горько плакала Ира, когда, уснувши в кабинке, потеряла свой сухарь! Я уговаривала ее, давала другой сухарь, но слезы все равно лились, хотя и шофер и другой солдат дали ей еще по сухарю. И успокоилась она лишь, когда сухарь нашелся.
Коля написал довольно много стихов за 1941-1943 годы. Из написанных в эти годы стихов составил две небольших книги, которые вышли одна в издательстве «Художественная литература» под названием «Синее вино», вторая в «Советском писателе» — «Прощание с юностью». Название книги «Синее вино», значит - вино печали, так сказано в «Слове о полку Игореве». И действительно, нам в эти годы с избытком было преподнесено «вина печали». Вообще же и до приезда в Смоленск в ноябре 1943 года, и после, много стихотворений посвящено теме войны. Это и поэмы, и лирические стихи. Писать ему приходилось и в землянке, где он жил вместе со своим взводом и в любом месте, хоть на пёнушке. Написанное читал своим солдатам, и те любили его. Коля мне рассказывал, что когда его откомандировали на химкурсы, он с ними со всеми обнялся, а плотник Ласточкин, обняв его, сказал: «Не беспокойся, товарищ лейтенант, пиши, а мы уж с фашистами сами справимся».
Коле хотелось в Союзе писателей показать, чем мы питались, и он попросил оставить 2~3 преснушки из жмыха, но ... есть было нечего, и сам же с удовольствием их съел.
В Москве нас поместили в пустующую квартиру (на время, конечно) до отправки куда-нибудь дальше в тыл.
Я с Колей в дни пребывания в Москве ходила в писательский ресторан и там встретилась с Сашей Твардовским. Мы уже сидели за столиком, когда Саша подошел к нам, поздоровавшись с Колей, о чем-то заговорил. Коля перебил его, спросив: «А почему ты не поздоровался с Женей? »
- С кем? Женей? А где она?
- Да вот же она, - и показал на меня.
Саша только и промолвил:
- О Боже, что же это с тобой, - и так долго смотрел на меня, что мне захотелось плакать, и я с трудом удержала слезы.
Еще до мая мы выехали в Чистополь. За время жизни в Чистополе я получила от Коли много писем. В конце октября 1942 года Коля на несколько дней приезжал в Чистополь. В Казани при переезде в порт, откуда дальше ехать пароходом, в трамвае у него из кармана утащили бумажник, и все деньги для нас и для него на обратную дорогу уплыли. Он остался без копейки денег, зато спас чемодан, который в это время тоже утаскивали. Мне пришлось снабдить его деньгами на обратный билет на поезд и на самолет. Кама за эти дни стала, и пришлось лететь в открытой «Уточке», а на голове пилотка. Было холодно, и я, чтобы спасти его уши, сшила рукавицы на вате и с шерстяным верхом. Коля рассказывал мне, что прикрывал уши моими рукавицами и тем спас их от обморожения. Самолеты в Чистополь прилетали не регулярно, а по возможности. М. В. Исаковский выбил ему внеочередную посадку, и то пришлось ходить три дня провожать Колю. Я — два дня, и один - Михаил Васильевич. Он ходил и со мной, но в один день было мое дежурство. Я работала дежурным комендантом по суткам через сутки, таким образом один день я не могла пойти. Чемодан с посылками друзьям от жен и свое имущество оставляли у начальницы аэропорта. И каково же было Колино удивление и возмущение, когда в Казани он обнаружил пропажу некоторых вещей.
А именно - бутылки водки, которую я получила в паек и отдала ему, чтобы он мог немного согреться после полета в открытом самолете. А ведь он был только в шинели и пилотке! Хорошо, что не вынули чужих посылок. А предложила оставить чемодан сама начальница аэропорта.
Писал Коля часто, но письма шли долго. Однажды Михаил Васильевич сказал мне, что Коля, присылая ему письмо, спутал два адреса - мой и его, но письмо он все-таки получил. Напи-сана была моя улица Бутлерова, затем номер дома Исаковского и его квартира. Письмо это у меня есть.
Прослужил Коля в саперном взводе и при постройке укреплений, и при минировании во время отступления. Потом уже и при наступлении для разминирования. Коля рассказывал, как при разминировании он всегда шел первым - таков был приказ для младших командирских чинов. Был он тогда лейтенантом. Позднее этот приказ отменили - слишком много гибло командиров. Прошел он сапером от Язева до Клина и Волоколамска.
После нашего успешного наступления Колю направили на курсы химобороны, где его обнаружили журналисты-писатели и по разрешению командования направили военным журналистом во «Фронтовой юмор». Работая в журнале, писал письма Михаилу Васильевичу с просьбой прислать стихи для «Фронтового юмора». В одном из десяти номеров «Фронтового юмора» за 1942-1943 гг. обнаружила стихотворение М. В. Исаковского «Ой, ругала я судьбу», что-то вроде частушек о «засундученом» немце. Михаил Васильевич включил это стихотворение-частушку в собрание сочинений.
Из «Фронтового юмора» по ходатайству Д. М. Попова Колю откомандировали в штаб партизанского движения. Будучи в штабе, писал листовки, воззвания, которые перебрасывались на оккупированную территорию.
Прослужил он там до освобождения Смоленска, и с поездом облисполкома из Кондрова мы вернулись с ним в Смоленск 5 ноября 1943 года. Дети с сестрой Любой остались пока в Кондрове.
Поезд от Кондрова до Смоленска тащил нас семь дней. Иногда можно было идти рядом, успевая наравне с ним. Наскоро восстановленная дорога, сметанная на живую нитку, не могла быть не только скоростной, но даже такой, как при старых допотопных паровозиках.
И все же до Колодни мы доехали, но пришлось нашему поезду оставаться в Колодне до утра: город не мог его принять – бомбили вокзал и всю прилегающую к нему территорию. Уж здесь путь недалек до дома, можно и пешком дойти. Вещички оставили в теплушке - основные вагоны были именно теплушки. Сидели кто на своих вещах, кто на полу, и таким же образом устраивались спать. Я абсолютно не замечала этих неудобств — так много было увидено и пережито, так много горя и потерь, что в родном городе и в этом поезде и камни и доски пола были удобны и родны.
Пошли мы в город. Я с Николаем Ивановичем и Лида Алфимова - наш старый друг по Смоленску. До войны Лида работала редактором детских передач смоленского радиовещания. Мы с ней и ее мужем Митей Белековым часто встречались в Доме искусств на Почтамской улице, где я работала в библиотеке.
Дошли до города быстро. Была светлая лунная ночь и какая-то тяжелая тишина вокруг. Идем к мосту - нам нужно в верхнюю часть города. В нескольких шагах от моста нас остановил патруль - здесь нет перехода, да и мы увидели — нет моста и как-то растерялись, но патруль, узнав, кто мы и куда стремимся попасть, указал на понтонный мост у спуска с базарной площади. Пошли. Понтон лежал прямо на воде, и, казалось, даже от нашей тяжести прогибался. Поднялись по Советской улице, пошли по улице Ленина. Шли ночью, при свете луны по страшному безмолвию, где наши шаги гремели, где в пустых глазницах сожженных домов видны были прогнувшиеся металлические балки, где от часов остался только обод... В страшной тишине, в этом безмолвии стояли коробки от домов с пустыми глазницами окон. От ужаса, от сжимающей сердце щемящей боли хотелось кричать и даже завыть. Действительно, «какая дикая комета здесь налетела на звезду». Дрожа всем телом, я еле передвигала ноги. Коля и Лида старались поддержать меня. Коля все время говорил: «Успокойся, родная, мы целы, мы сильны, и все будет хорошо. Город наш еще расцветет».
Дошли мы до обкома партии, там нас приютили на ночь. Следующую ночь спали в Доме печати на площади Смирнова в редакции «Рабочего пути» на скамейках, а через несколько дней получили квартиру по Запольному переулку, 4. Квартира цела, но окна без стекол, нет отопления. Нам поправили плиту на кухне. Пока не сделали отопления - печурки-времянки, прошло много времени, и мы жили на кухне. От центра и до нас был сплошной пустырь, заросший чернобыльником. Вечерами я боялась ходить - от домов остались только печи с трубами, в которых жутко завывал ветер. Но жить и работать надо. И мы работали.
Новый 1944 год встречали у нас на Запольном - Саша Твардовский, Шурыгин с женой Антониной Михайловной и мы с Колей. Проговорили до 6 часов утра, все об увиденном, все о том, как теперь будем жить.
Еще в поезде мне предложили работать на радио, но я отказалась - не знала этой работы, и там же согласилась временно поработать на шестимесячной ремесленной подготовке связистов для города и района.
Работала воспитателем и знакомила с литературой. Там же работала и Лида Алфимова. Са-мое ужасное в то время было ходить с ребятами на спасательные работы после ночных бомбежек, которые, в основном, достались Заднепровью. Разбирая завалы разбитых бомбами домов, мы редко находили еще живых, большинство - уже мертвыми.
В том же году в начале лета приехал в Смоленск М. В. Исаковский. Жил у нас. Правда, из облисполкома привезли кровать и все полагающееся к ней. Они с Колей ходили по городу, Михаил Васильевич был взволнован, потрясен увиденным - он ведь тоже любил наш город. А когда на вторую ночь был налет немецкой авиации и бомбежка продолжалась с 11 и до 3 часов утра, - сразу утром пошел в обком партии, попросил машину для отъезда в Москву. А Коле сказал, что такого кошмара он не в состоянии еще раз вынести, и отчитал его, что привез сюда меня и детей. Бомбили нас и после отъезда Михаила Васильевича, и прятаться нам было негде, и мы все спускались на первый этаж. Жильцы всех четырех этажей стояли там как одна семья. Я часто дрожала (у меня была малярия), держа Иру на руках, и она попросилась к отцу и больше не шла ко мне на руки, говоря: «Папа не дрожит».
В этом доме мы и дождались Победы.
Стихи, написанные 9 мая 1945 года:
Мы до рассвета не смыкали глаз,
Мы слышали: ликует вся природа.
Пришел тот день и наступил тот час,
Что снились нам четыре долгих года.
Добит и в прах повержен недруг злой,
Топтавший наши пашни и дубравы.
Победы солнце встало над землей
То солнце правды, солнце нашей славы!
Ну и ликование же было! Смех и горькие слезы, много горьких слез пролили те, к кому уже не могли вернуться ушедшие и погибшие на войне».
Рыленкова, Е. Радость встречи – горечь разлуки / Е. Рыленкова // Возвращение к истокам / Н. Рыленков. – Смоленск: Маджента,2006. – С. 180-191.