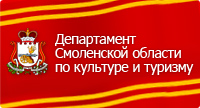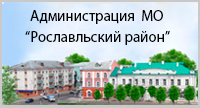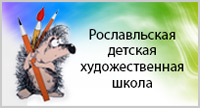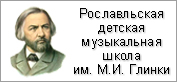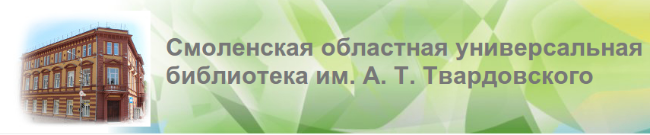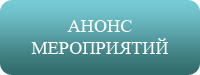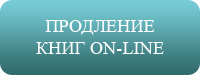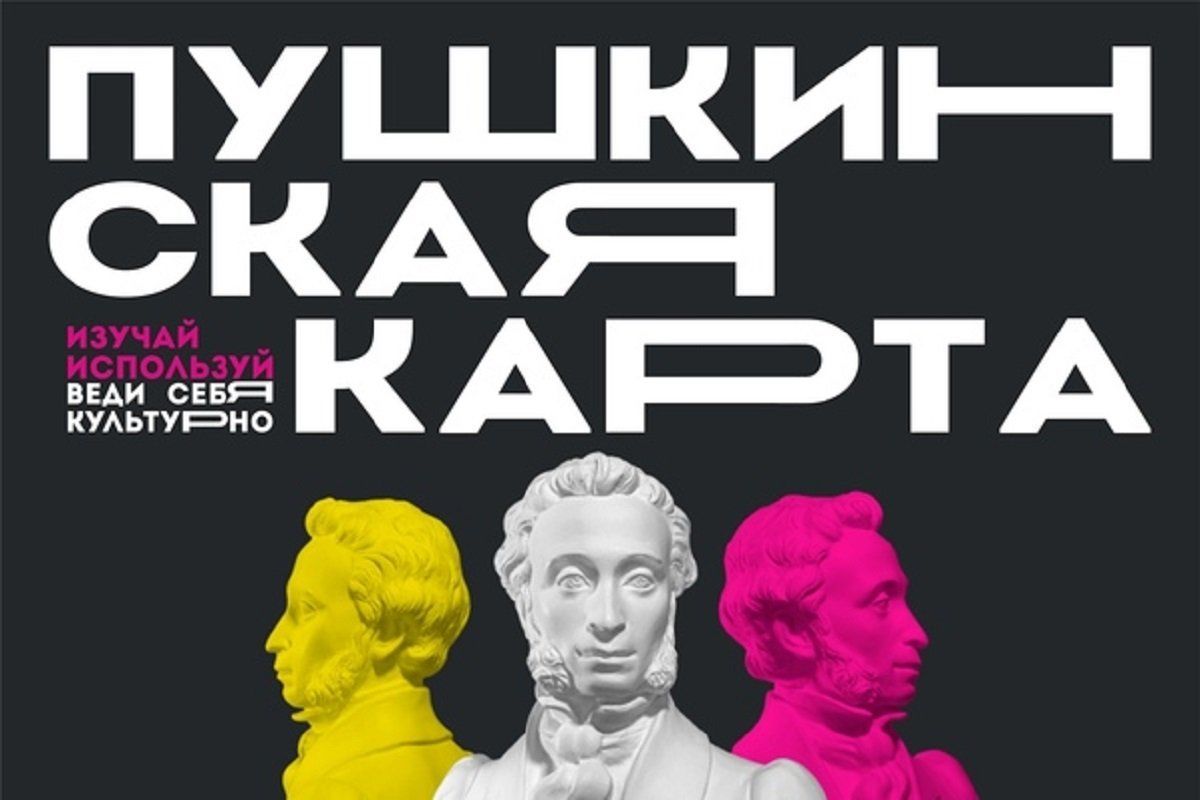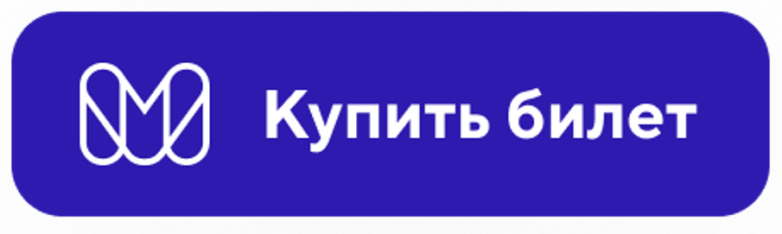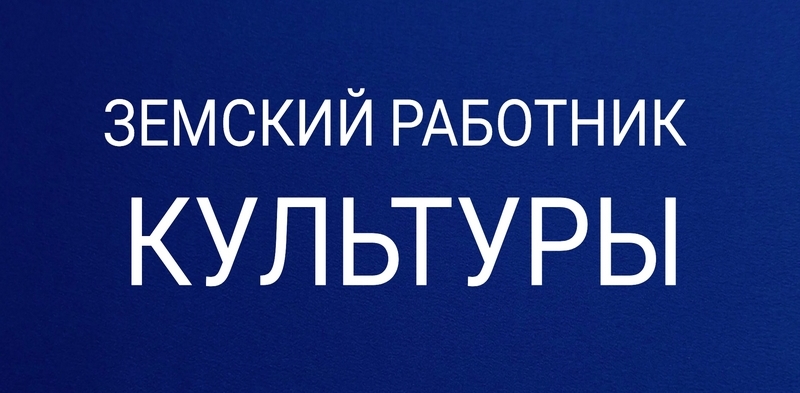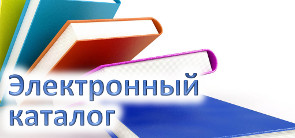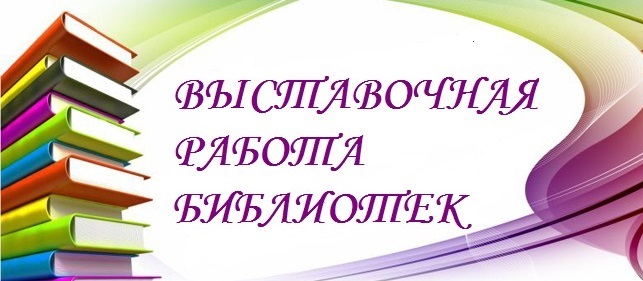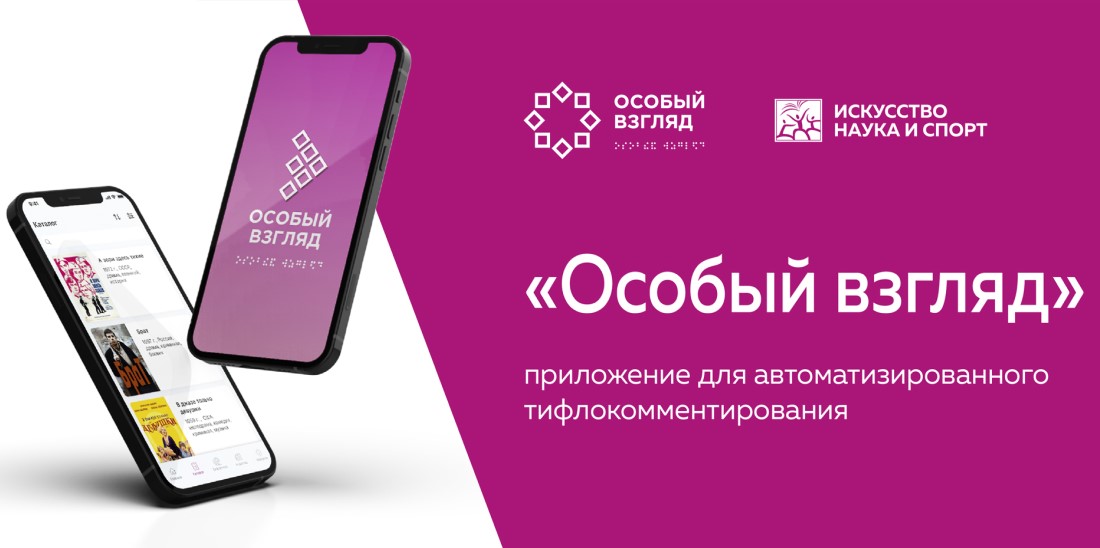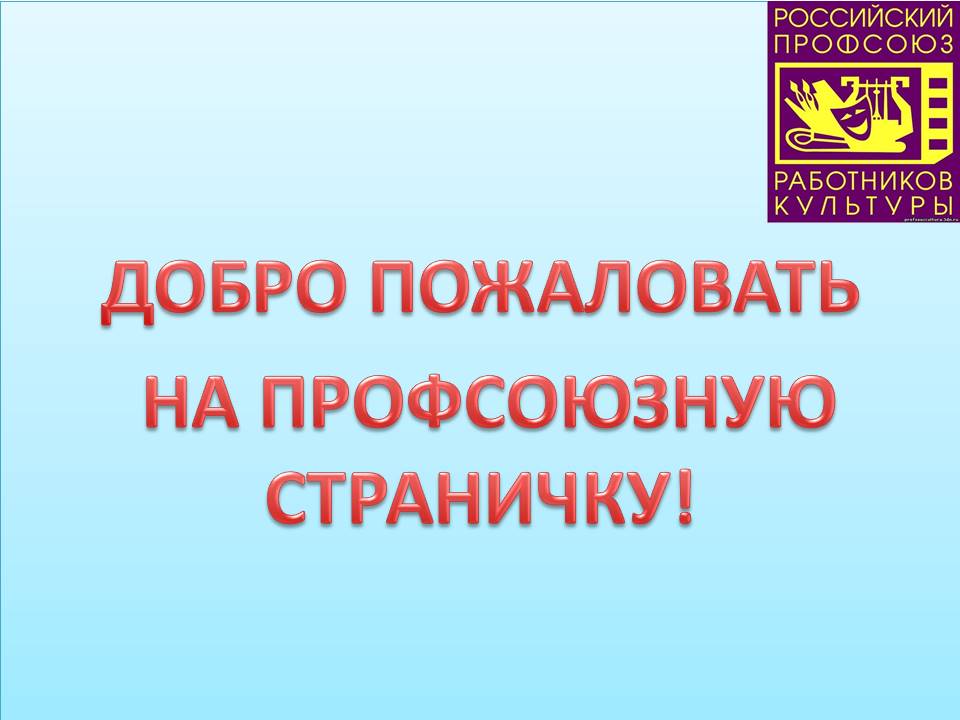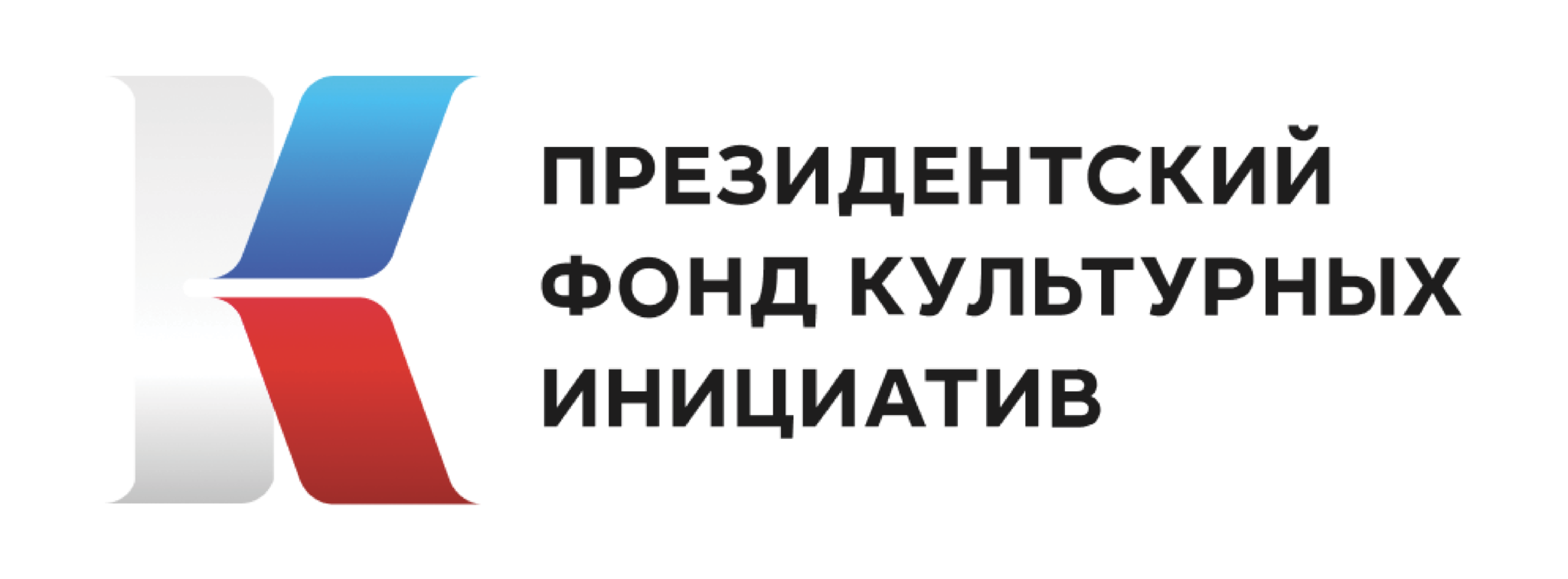Интервал между буквами (Кернинг):
- Главная
- Мой Рославль- частица Смоленщины милой
- Лица нашей ПОБЕДЫ (Они воевали на Смоленщине)
- Синяков Игнатий Харитонович
Лица нашей ПОБЕДЫ (Они воевали на Смоленщине)
Синяков Игнатий Харитонович
17.04.2025
Синяков Игнатий Харитонович
Огонь на себя
Родился 20 декабря 1920 г. в селе Дубки Сенненского района Витебской области Белоруссии. До войны, в 1939 г., окончил 10 классов средней школы. В июне 1941г. окончил Сумское артиллерийское училище ускоренным курсом в полтора года. В 1951 году окончил Высший военно-педагогический институт. Кандидат исторических наук, доцент. Беспартийный, член союза журналистов.
О начале Великой Отечественной войны узнал 22 июня 1941 г., будучи курсантом Сумского артиллерийского училища. 3 июля 1941 г. уже в звании лейтенанта прибыл в Москву для участия в формировании 9-й дивизии Народного ополчения Кировского района. Был назначен на должность командира полковой артиллерийской батареи 1300-го стрелкового полка (командир полка подполковник Зайнутдинов).
Начал участвовать в боевых действиях в составе дивизии 1 октября 1941г. под городом Ельня Смоленской области в должности командира батареи 76-мм пушек 1300-го стрелкового полка. Боевой путь проходил через: поселок Крюково (дек. 1941 г.), г. Солнечногорск (дек. 1941 г), г. Великие Луки (1942 г.), г. Витебск (дек. 1943 г.), г. Орша (июнь 1944 г.), г. Борисов 371 (июнь 1944 г.), г. Молодечно (июль 1944 г.), г. Инстенбург (январь 1945 г.), город-крепость Кенигсберг (апрель 1945 г.), город-крепость Пиллау.
В битве за Москву я принимал непосредственное участие в отражении первого генерального наступления немецко-фашистских войск на Москву. 1 октября 1941 г., после мощной артиллерийской подготовки, гитлеровские войска атаковали позиции 9-й Кировского района стрелковой дивизии Народного ополчения. Главный удар гитлеровцев принял на себя 1300-й стрелковый полк под командованием подполковника Зайнутдинова и батальонного комиссара Сизова, погибших в первый же день сражения. Отражение последующих атак противника 1 и 2 октября, а так же удержание основных позиций дивизии, легло на плечи полковой артиллерийской батареи 76-мм пушек, командиром которой довелось быть мне. Отбивать массированные атаки можно было только огнем прямой наводки и только при достаточном количестве боеприпасов. В этом напряженном бою нам помогло наличие шрапнельных (картечных) снарядов, поражавших пехоту противника, отчаянно пытавшегося захватить нашу батарею. Таким образом, шести орудийная батарея удерживала позиции до 800 м по фронту.
Думается, что у каждого фронтовика самыми запомнившимися событиями жизни остались впечатления, связанные с первыми днями, а иногда и часами пребывания на передовой, участия в первых сражениях. Храбро сражались командир орудийного расчета Грибков, наводчик Ничаев, рядовые Кутузов и Ильин, водитель автотягача Добрынин. Неся потери, батарея и второго октября продолжала отражать атаки немцев. И только с письменного разрешения отошла на новые позиции. Потеряв командира полка, батарея перешла под непосредственное руководство начальника артиллерии дивизии, который предусмотрительно приказал сменить огневую позицию как раз в тот район, откуда противник с утра 2 октября возобновил наступление с целью перерезать (перехватить) коммуникации дивизии и окружить штаб дивизии. Осуществить свой замысел немцам не удалось только благодаря мужеству и стойкости батарейцев. Невзирая на нестерпимый ружейно-пулеметный и минометный огонь, сноровисто и неотступно действовали командир орудийного расчета Грибков, наводчик Нечаев (участник еще первой мировой войны), заряжающий Кутузов, замковый Ильин и другие.
Особо отличился водитель артиллерийского тягача (автомобиля ЗИС) Добрынин, который под минометным обстрелом исправил, заглохнувший было двигатель, и вывел автомобиль с двумя орудиями на прицепе из-под обстрела. Из-за отсутствия командиров огневых взводов и ранения наводчика, командиру батареи приходилось становиться к орудийному прицелу и, несмотря на контузию, вести огонь. Таким образом, на ходу обученные, но зато морально стойкие, сильные духом и верные своему воинскому долгу москвичи-добровольцы сражались за столицу нашего отечества - Москву. Арьергардное сражение под Новопетровском 16 ноября 1941 г. немецко-фашистское командование начало свое второе «генеральное» наступление на Москву. Ознаменовалось оно, как известно, сражением у разъезда Дубосеково, подвигом 28 героев-панфиловцев.
Хотя немцам был дан решительный отпор и нанесены большие потери, силы все же были неравны. Советское Верховное командование приняло решение об отводе соединений 16-й армии на новый, более выгодный рубеж обороны, проходивший по восточному берегу Истринского водохранилища и р. Истра. Для обеспечения организованного отхода на новый рубеж обороны, как всегда в подобных ситуациях, необходим был арьергард, который не допустил бы «наседание» противника, остановил его продвижение на необходимое для занятия нового рубежа время.
Для выполнения этой ответственной боевой задачи был назначен 615-й отдельный стрелковый полк, находившийся в Звенигороде на пополнении и состоявший в резерве армии. Хотя полк не успел закончить формирование (в третьем стрелковом батальоне была сформирована только одна рота), а полковая артиллерийская батарея еще не получила материальной части, т. е. артиллерийских 76-мм пушек, тем не менее, в ночь с 16 на 17 ноября войсковая часть была поднята по боевой тревоге и форсированным маршем отправилась в направлении Новопетровское.
Во второй половине дня 17 ноября был сделан небольшой привал, во время которого провели митинг личного состава в здании Ново-Иерусалимского собора. Поздно вечером, почти ночью, прибыв в Новопетровское, получил приказ: батарея должна действовать в роли 8-й стрелковой роты и оборонять участок около 900 м левее шоссе и 300 м западнее поселка. На отведенном участке фронта, к нашему счастью, оказались два больших окопа, отрытых кем-то еще ранней осенью. Они, эти окопы, и явились главным опорным пунктом обороны, главным очагом сопротивления. Только - только мы успели занять свой рубеж, как послышался треск приближающихся мотоциклов. У кого-то из бойцов не выдержали нервы - по мотоциклам был открыт огонь из карабинов. Бросив мотоцикл, немцы скрылись на двух других машинах. Стало ясно, что это была вражеская разведка. Находясь в тревожном ожидании, в первом часу ночи получили винтовочные патроны, противопехотные ручные гранаты РГД-2 и горячую пищу, которая, впрочем, бойцам «не шла» в рот.
Ожидать наступления противника оставалось недолго. В седьмом часу утра 18 ноября он открыл ураганный артиллерийский огонь, продолжавшийся около четверти часа. Под его прикрытием и сосредоточилась для броска в атаку гитлеровская армада. Как только закончилась артподготовка, тотчас застрочили автоматы и пулеметы. Стреляя на ходу, автоматчики во весь рост ринулись к нашим позициям. Мы ответили дружным огнем из карабинов. Несколько фашистов упали, сраженные нашими пулями. Немцы залегли, но ненадолго. Через несколько секунд звенящую тишину снова прорезал звук летящих патронов. Осколками разрывных пуль были ранены наши бойцы. Это, однако, не помешало нам отбить и третью атаку. Испытав силу нашего ответного огня, поняв безнадежность новых атак и осознав, что победа не достанется им так просто, гитлеровцы вызвали себе на помощь танки.
Услышав гул танковых двигателей и лязг гусениц, - подаю команду: «Приготовить связки гранат!» Едва успел связать две-три штуки, как танки гитлеровцев, стреляя из пушек и пулеметов, ринулись на наши окопы - крепости. Танков было два - по одному на каждый из наших окопов. Не отставая от танков, двигались автоматчики. Первая противотанковая связка была брошена раньше времени и не долетела до танка, так как бронированное чудо не подошло еще близко к окопу. Но и этого броска хватило для того, чтобы танк остановился. Однако, вести огонь танк не перестал. Напротив. Огонь стал еще более интенсивным и прицельным. Мы начали нести большие потери. Но ничто не могло поколебать нашу стойкость и решимость не пропускать врага. Огонь обороняющихся не прекращался ни на минуту. Аналогичная обстановка сложилась и у защитников окопа, расположенного правее нас метров на 150. Ввиду того, что местность была лесистая, мы не могли видеть, что происходит у наших товарищей, возглавляемых комиссаром батареи. Спустя некоторое время я увидел, что противник обошел нас с правого фланга. Значит, «комиссарский» окоп не выдержал огневого воздействия немцев. Пришлось занять т. н. круговую оборону. Не увенчался успехом маневр немецко-фашистских захватчиков - атаковать нас с тыла и взять в плен или принудить нас к сдаче. Пока мы вели напряженный, полный драматизма бой, не заметили, что наступили сумерки, а мы оказались в полном окружении.
Главные силы немцев продвинулись по шоссе на несколько километров к Востоку. Об этом можно было судить по вспыхивавшим время от времени немецким осветительным ракетам. Принимаю решение выходить из окружения в Северо-восточном направлении. Все находившиеся со мной бойцы, поддерживая тех, кому тяжело было идти из-за полученных ранений (а все, в том числе и командир, были ранены) перейдя шоссе, двинулись в выбранном направлении. Скрытно преодолев вражеские посты, подошли к Истринскому водохранилищу и по тонкому, еще не окрепшему льду, вышли на рубеж обороны 316-й (8-й гвардейской) стрелковой дивизии, где нас радушно встретили и приняли в свои ряды.
Сразу же по прибытии в 857-й артиллерийский полк (командир - подполковник Курганов), я был назначен начальником разведки артдевизиона под командованием старшего лейтенанта Д. Поцелуева (литературный псевдоним Дм. Снегин).
Наблюдательный пункт дивизиона был расположен на чердаке административного корпуса кирпичного завода, что примерно в полутора километрах восточнее поселка Крюково. Однако, вскоре потребовалось забираться повыше - на гигантскую трубу кирпичного завода. Дело в том, что к началу декабря 1941 года немецко-фашистское наступление на Москву стало затухать из-за понесенных больших потерь с одной стороны и все усиливающегося сопротивления Красной Армии с другой стороны. К этому времени в поселке Крюково скопилось много вражеской живой силы и военной техники. Учитывая это обстоятельство, командование фронтом приняло решение - нанести по Крюково сильные удары артиллерией бронепоезда.
Для того, чтобы планируемые удары оказались наиболее точными и результативными, необходима была точная корректировка артогня. Достичь этого можно было только поднявшись на вершину гигантской трубы кирпичного завода. Так как своего корректировщика у командования бронепоезда видимо не было, то оно обратилось с просьбой к командиру артполка, а тот в свою очередь поручил эту задачу, корректировать огонь, мне. Телефонист и я поднялись к началу трубы кирпичного завода. Телефонист остался у входа внутрь трубы, а я поднялся по железным скобам на 100 м выше. Сильный морозный, перемешенный с золою воздух останавливал дыхание. Плохо слушались руки и ноги, а еще через пару десятков метров обнаружилось отсутствие нескольких скоб, а другие - еле держались в стенке. Однако, невзирая ни на что, напрягаясь изо всех сил, мне удалось ухватиться за верхний край трубы и подать необходимые команды для открытия огня. Заметив первый залп, ввел необходимую корректуру сначала по направлению, а со второго залпа - по дальности. После этого подал команду о переходе на поражение.
Результаты артудара не заставили себя долго ждать. Уже через несколько минут произошло несколько взрывов, и вспыхнули пожары. Закончив стрельбу, спустился вниз и доложил об этих результатах. Судя по всему, командование осталось довольным, так как во втором часу ночи я получил приказание снова подняться на вершину трубы и вторично откорректировать новый огневой удар. Документальное подтверждение причиненного противнику урона было получено уже 8-го декабря, когда в ходе нашего контрнаступления был освобожден поселок Крюково. Фотоснимки разбитой вражеской техники говорили сами за себя.
Под городом Холм
В конце января 1942 года наша 8-я гвардейская стрелковая дивизия была передислоцирована на северо-запад и вошла в состав Калининского фронта. Под командованием генерал-полковника И. Чистякова (3-я ударная армия) успешно действовала в зимней операции в окружении 16-й немецкой армии. Но к весне 1942 года, в силу ряда причин, оказалась в полуокружении под городом Холм.
Положение осложнялось отдаленностью от ж.д. станции, снабжения и весенней распутицей. Но и в такой тяжелой оперативно-тактической и природно-климатической обстановке 1073-й стрелковый полк под командованием майора Баурджана Мумыш-Улы действовал смело и решительно. Так, в бою под деревней Кобляки, было захвачено несколько вражеских орудий калибра 105-мм, автотягачей и др. Однако, взять (освободить г. Холм) с ходу не представилось возможным, и полк перешел к обороне, во время которой большая роль отводилась полковой артиллерийской батарее 76-мм пушек, командиром которой довелось быть мне. Огнем батареи были уничтожены немецкие: 20-мм автоматическая пушка, несколько пулеметов, досталось и пехоте противника.
Все это вызывало ответный огонь, который, однако, не причинял нам заметного урона, так как был неточным. Но 2 мая 1942 года, прежде чем предпринять внезапное наступление, немцы решили обезопасить себя от нашего артогня и подняли в воздух самолет-корректировщик, с появлением которого на мою позицию обрушился огонь тяжелых орудий противника. Когда артналет прекратился, и мы вышли из своего небольшого укрытия, в угол которого угодил один из снарядов, то мы не узнали микрорайона своей огневой позиции и не увидели своих орудий: почти все деревья были срублены осколками вражеских снарядов, а пушки завалены упавшими деревьями и комьями земли. Однако, ни одно из орудий не получило серьезных повреждение и были готовы вести огонь. После того, как была восстановлена телефонная связь с передовым наблюдательным пунктом, я узнал, что как раз во время артудара по огневой позиции батареи противник предпринял внезапную, без артподготовки атаку, которую вначале не выдержали наши стрелки. Но положение спас и предотвратил дальнейшее попятное движение командир отделения телеф. связи (радиосвязи в то время не было) батареи сержант Сидоров. В критический момент боя он выставил имевшийся у него трофейный пулемет на бруствер землянки и открыл по наступавшим гитлеровцам шквальный огонь. Противник явно не ожидал такого отпора и залег. Это обстоятельство позволило командиру нашего стрелкового батальона организовать контратаку и восстановить ранее занимаемую позицию.
Уместно вспомнить здесь об одном случае, произошедшем утром перед разыгравшейся баталией. Проснувшись (а спали мы под деревьями на еловых ветках), обнаружил, что единственное наше укрытие - землянка в 3 наката, снова заполнилась грунтовой водой. Я вызываю командиров орудийных расчетов и приказываю откачивать воду из землянки ведрами. В ответ слышу ропот и реплику, что де все это будет напрасным трудом, ибо через 2-3 часа наш блиндаж снова будет затоплен.
Но, хотя и без особого рвения, приказания стали выполнять. Однако вычерпать воду до дна не успели. Над позицией появился самолет. Подаю команду, всем в укрытие, сам следую туда же. Только благодаря своевременно принятым мерам безопасности, своего рода боевого обеспечения, нам удалось без потерь выдержать жесточайший артудар. Надо ли говорить о том, что после этого события авторитет командира поднялся 378 намного выше. Мне было присвоено очередное воинское звание (досрочно) - старший лейтенант.
Прорыв
Прорвать сильно укрепленные позиции противника, разгромить его и освободить Белоруссию - таковы были основные цели операции «Багратион».
Наша 31-я гвардейская дивизия должна была наступать правее шоссе Москва-Минск, нанося главный удар по поселку №5 (Центральный) Асинстроя, расположенного среди крупного массива торфоразработок, исключавшего использование танков. Единственная надежда возлагалась на узкоколейку, когда-то проложенную для провоза торфа. Но эта «дорога» была настолько узка и не прочна, что сложно было представить, как по ней перемещать орудия вслед за наступающими стрелковыми батальонами. В такой обстановке я, как командир артдивизиона принял хотя и рискованное, но оправдавшее себя решение: сразу же после окончания артподготовки одновременно перемещать обе пушечные батареи по узкоколейной дороге, дабы не отстать от стрелков и быть в готовности поддержать их своим огнем. Впрягаясь в лямки, налегая на колеса, подмащивая доски и шпалы, пушкари продвигали свои орудия вперед. Но через некоторое время немцы при поддержке танков и самоходных орудий перешли в контрнаступление.
Продвижение батальонов 95-го гвардейского стрелкового полка приостановилось. Надо было немедленно открывать артиллерийский огонь по контратакующему противнику. Это мы сразу поняли. Невзирая на неудобство позиций, мы открыли огонь по танкам и штурмовым орудиям гитлеровцев. Не ожидавшие огня прямой наводки и понеся потери, немцы вынуждены были отступить. Наши стрелки, вновь поднялись в атаку, как с фронта, так и с фланга.
Опасаясь окружения, хваленые Гитлером вояки ускорили свой драп. Так, благодаря инициативе, находчивости, смелости и мастерству артиллеристов, представилась возможность сравнительно быстро прорвать сильно укрепленные позиции противника и развить наше наступление в направлении города Орша. Через сутки в образовавшийся «коридор» были введены новые дивизии, направление наступления 31-й гвардейской дивизии стало главным. Вперед, к Неману! Разгромив основные силы немецко-фашистских войск под Витебском и Бобруйском, советские войска, ведя параллельное преследование, сбивая его заслоны, стремительно продвигались на запад, проходя по 30-40 км в сутки. Так было в первой половине июля месяца 1944 года.
Командир 64-го гвардейского артполка поставил мне, командиру 3-го артдивизиона, задачу - следовать за 97-м гвардейским полком в готовности поддержать его действия артогнем. Было сказано, что к утру 10 июня стрелковый полк должен быть в районе населенного пункта Дайнава. Будучи озабочен тем, чтобы не опоздать с прибытием в заданный район, решил избрать кротчайший путь - через лесной массив. Принятию такого решения послужил доклад командира взвода управления о том, что в лесу есть хорошая дорога, проложенная танковой колонной. Предполагалось, что впереди нас прошла наша танковая колонна.
К 11 часам жаркого дня мы прибыли в указанный нам район, но присутствия наших стрелков не обнаружили. Радиосвязь с командованием установить не удалось. В этой обстановке неясности было решено сделать привал, тем более что и люди, и лошади устали. Поблизости оказалась небольшая речка, и ко мне стали поступать просьбы разрешить искупаться. Но не прошло и получаса, когда взволнованные и запыхавшиеся двое разведчиков дивизиона докладывают: «В лесу немцы!» Немедленно командую: «Дивизион, к бою!» Все 12 орудийных стволов заряжены и нацелены на лесную опушку, указанную разведчиками. Командиры орудий ждут команду на открытие огня. Волнение предалось и мне. Момент критический. Однако вспомнилось одно из правило артиллеристов: «Не вижу - не стреляю». Не известны силы немцев, их намерения, не окружают ли нас? Если выяснится, что окружают - надо будет перенацеливать батареи, занимать круговую оборону. Через несколько минут обстановка разрядилась. Из леса, группами по 15-20 человек, с какими-то белыми полотнищами в руках и поднятыми вверх руками стали выходить немцы и сдаваться в плен. Оказалось, что сдались нам более 150 гитлеровцев. Возникла другая проблема: а что с ними делать дальше? Конвоировать в тыл? Куда и кому передавать? Отвлекать наших людей для конвоирования, значит ослаблять орудийные расчеты, поредевшие в боях. Но тут обстановка неожиданно снова переменилась. Нас догнали стрелковые батальоны. Увидев построенных немцев, они тут же их «приватизировали» и, тем самым, сняли с нас лишнюю заботу.
Таким образом, стало ясно, что путь, по которому мы следовали через лес, был проложен не нашими, а немецкими танками, спешившими переправиться через реку Неман по еще не взорванному немцами мосту. Форсирование р. Неман к исходу дня 12 июля 1944 г. полки 31-й гвардейской Витебской стрелковой дивизии подошли к восточному берегу р. Неман с задачей с ходу форсировать эту серьезную водную преграду на участке севернее и южнее мостов Алитус-1 и Алитус-2. Ширина реки в полосе наступления дивизии достигла 200 м, глубина более 4 м, течение быстрое, берега - крутые, высокие, обрывистые. Мосты, отступавшие немецко-фашистские части, взорвали. 3-й артиллерийский дивизион 64-го гвардейского артиллерийского полка получил задачу: обеспечить огневую поддержку подразделений 97-го гвардейского стрелкового полка во время форсирования реки и при бое в глубине обороны противника.
Для выполнения этой ответственной задачи командир дивизиона вместе с командиром 9-й батареи старшим лейтенантом Н. Сметанниковым ранним утром 13 июля заняли наблюдательный пункт на крутом берегу в 300 м правее взорванного моста и сразу же нанесли несколько огневых ударов по оборонявшемуся противнику на западном берегу реки. Через Неман Передовые части дивизии подошли к реке Неман 12-го июля. Первым авангардным полком был наш 95-й гвардейский. Этот же полк уже на следующий день на подручных средствах, самодельных плотиках, а затем при помощи закрепленного на западном берегу каната, под огнем противника, захватил, а затем и расширил плацдарм. К вечеру на западный берег был переправлен весь дивизион. В жарком бою за Алитус отличились многие бойцы и командиры. На третий день город был освобожден.
Освобождено было и более 10000 заключенных фашистского концлагеря, узников, которых немцы не успели, ни уничтожить, ни эвакуировать. Таким образом, путь в Восточную Пруссию стал прямым и широким, хотя и тернистым. Вскоре наш наблюдательный пункт был замечен немцами, и мы подверглись пулеметно-минометному налету. Старший лейтенант Сметанников получил осколочное ранение в плечо и вынужден был пойти в медсанбат. В этот день передовым подразделениям стрелкового полка удалось на подручных средствах, а также с использованием перекинутого (перетянутого) на противоположный берег стального троса переправиться на противоположный берег и отвоевать небольшой плацдарм.
На следующий день саперный батальон дивизии предоставил дивизиону небольшой плотик, смонтированный на резиновой надувной лодке. На этом плотике, под огневым воздействием противника и при непрерывных налетах его штурмовиков и бомбардировщиков, были переправлены на западный берег пушечные батареи. Гаубичная батарея при этом оставалась на огневых позициях и оказывала нам необходимое огневое прикрытие. Первым начал переправу орудийный расчет старшего сержанта А. Кукушкина. С этим же первым рейсом переправлялся и командир артиллерийского дивизиона майор И.Синяков.
Преодоление сильного течения осложнялось и тем, что к нашему «парому» были привязаны и лошади (76-мм пушки были на конной тяге). Кроме этого, видимо, из-за недостаточно прочного закрепления орудия на плоту, а также не очень точной «центровки» его на «палубе», не доплыв примерно 50 метров до берега, орудия начали смещаться, крениться на левый борт. Орудийному расчету стоило приложить немало усилий для того, чтобы удержать пушку на плоту. Тем не менее, причалили мы благополучно. Но как поднять орудие на крутой берег? Пошли в ход лопата, киркомотыга, топор. Затем все впряглись в лямки, вцепились в лафет и буквально на плечах подняли-таки пушку на берег, привели в боевое положение, впрягли лошадей (которым тоже нужна была помощь при подъеме на крутой берег) и двинулись догонять стрелков, оказывать огневую поддержку. Огонь был открыт через несколько минут по огнеметам, задерживавшим наступление наших подразделений.
Вторым рейсом было переправлено орудие старшего сержанта Ф. Немчинова, которое также с ходу вступило в бой. Догнав стрелков, Немчинов галопом въехал в город Алитус, а на утро, когда немцы начали контратаку, орудие старшего сержанта Немчинова подбило фашистский танк. Будучи раненым, он не оставил поле боя, лично убил двух автоматчиков, а наводчик рядовой Молев поразил одного из контратаковавших. В этом же бою был взят в плен один из гитлеровцев, давший ценные показания командиру дивизии, а затем штабу дивизии. Кстати, ранение старшего сержанта Ф. Немчинова было вторым. Первый раз он был тяжело ранен еще в конце лета 1941 года под г. Ярцево, будучи наводчиком артиллерийского орудия. Медицинская комиссия определила его в нестроевые, сначала (его) направили в комендантский взвод, а затем назначили поваром. Но «воевать» поварским черпаком было не в характере Немчинова. По настоятельной его просьбе он был определен в артполк, (сначала) наводчиком орудия, а затем назначили и командиром, за его бойцовские качества и хорошую профессиональную подготовку.
О подвигах Немчинова писала даже фронтовая газета (см. «Красноармейская правда» от 22.11.1944 г.). «Огонь на себя» (январь месяц 1945 г.): «Советские войска готовятся к большому зимнему наступлению, прорыву хорошо укрепленной обороны на границе Восточной Пруссии. В это время премьер-министр Великобритании У. Черчилль обратился к Верховному Главнокомандующему И.В. Сталину с просьбой ускорить начало наступления Советской Армии. Причиной такого обращения явилось крупное поражение англо-американских войск в Арденах в результате немецкого контрудара в декабре 1944 г. Просьба союзников была учтена. Войсковые соединения 11-й гвардейской армии 13 января 1945 г. перешли в наступление в районе Пилькален. 64-й гвардейский артиллерийский полк 31-й гвардейской стрелковой дивизии получил приказ участвовать в артподготовке наступления 124-й стрелковой дивизии 39-й армии, назначенного на 13 января 1945 г. В первые часы наступление развивалось успешно. Стрелковые батальоны, наступавшие западнее Пилькален, овладели тремя траншеями первой линии обороны противника. Однако во второй половине дня темпы продвижения стали замедляться. Немцы подтянули резервы и перешли в контрнаступление, избрав при этом своеобразную тактику. Она учитывала как погодные условия, так и характер инженерно-оборонительных сооружений. Густой туман не позволял вести точный артогонь и исключал действия авиации, а многочисленные ходы сообщения между траншеями предоставляли широкую возможность маневра в целях избежания артударов. Не выходя из траншеи, немецко-фашистская пехота, ведя шквальный оружейно-пулеметный, автоматный и гранатометный огонь, перешла в контрнаступление и начала теснить наступающих с флангов и под угрозой окружения, вынуждало их оставить сначала третью, а затем и вторую траншеи. К исходу суток 13 января создалась реальная угроза потери завоеванного участка 1-й траншеи и, таким образом, свести на нет успехи первого дня наступления, создалась угроза потери плацдарма для дальнейших действий дивизии.»
На подступах к Кенигсбергу
Наступая в направлении Кенигсберга, мой артдивизион следовал за стрелками, в готовности поддержать их действия своим огнем. Мы быстро догнали пехоту, которая, как было видно, замедлила темп своего наступления из-за снежного покрова. Что было делать дивизиону? Оставаться на открытой местности на виду у противника или же на максимальной скорости, обогнав стрелков, ворваться в поселок? С единодушного одобрения командиров батарей я принял непростое решение - максимальная скорость, немедленное открытие огня, как только достигнем поселка. Наша быстрота оправдала себя, и наш риск был не напрасным. Стоявшее на прямой наводке немецкое зенитное артиллерийское орудие среднего калибра не успело произвести ни одного выстрела. Орудийный расчет, солдаты других подразделений спрятались в близ расположенных домах и в подвалах. Вслед за разрывами наших снарядов артиллерийские разведчики и связисты начали брать в плен солдат и офицеров.
В числе первых пленных мне представили подполковника, командира зенитно-артиллерийского полка и его адъютанта лейтенанта. Со слов пленного, а также и из его солдатской книжки, я выяснил, что его фамилия фон Кальден. Кроме подполковника в плен было взято около двадцати человек. Когда же подошли стрелковые батальоны, командование 97-го гвардейского стрелкового полка взяло моих пленных под свою опеку, и тем самым дало мне возможность заняться организацией отпора опомнившимся гитлеровцам. Расчеты гаубичной батареи открыли огонь прямой наводкой по немецким танкам и самоходным орудиям. В этом деле довелось принять участие и мне как командиру дивизиона. Со второго выстрела мне удалось подбить одно самоходное орудие противника. Примерно через один час контратака была отражена с большими потерями в стане врага, а поселок очищен. Перед штурмом Кёнигсберга.
Штурм Кёнигсберга готовился очень тщательно. Ранним утром 31 марта 1945 года ко мне в наблюдательный пункт, расположенный на высоком гребне одного из взорванных фортов, пожаловал командир дивизии генерал-майор И. Д. Бурмаков. Не успел я закончить доклад, как генерал быстро прильнул к окулярам одной из стереотруб и начал обозревать позиции противника. Через несколько секунд он подзывает меня к себе и говорит: «Посмотри. Дай огня!» Посмотрел я и ахнул. Большая группа солдат производит какие-то работы по укреплению позиций.
Я быстро определил координаты цели, исходные данные для стрельбы и немедленно передал их по радио старшему по огневой позиции гаубичной батареи. Первые пристрелочные выстрелы произвожу с фугасным взрывателем. После пристрелки подаю команду: «Взрыватель осколочный, веер сосредоточенный, четыре снаряда, беглый огонь!» В свою стереотрубу вижу, как падают и разбегаются немцы-саперы. Генерал, наблюдавший пристрелку и стрельбу на поражение, остался доволен. Я, в свою очередь, объявляю благодарность «огневикам», командиру первого огневого взвода старшему лейтенанту Червякову. Штурм городов-крепостей Кёнигсберга и Пиллау Город Кёнигсберг был с давних пор крупным экономическим и политическим центром Восточной Пруссии, цитаделью германского милитаризма, трамплином в стратегии «Дранг нах Остен». Одновременно Кенигсберг являлся сильнейшей крепостью, опоясанной по периметру линией мини крепостей-фортов, взаимосвязанных между собой ходами сообщений и огневым взаимодействием. Каждый форт имел постоянный гарнизон из четырехсот-шестисот солдат и офицеров, до двух десятков артиллерийских орудий, множества пулеметов, огнеметов и другого вооружения. Форты были окружены глубоководными рвами с крутыми бетонными стенами, имели многометровые, многослойные, непробиваемые никакими бомбами, потолочные покрытия. Кроме вышеназванных укреплений, вокруг города был сооружен глубокий, с крутыми и высокими брустверами, противотанковый ров, находившийся под огневым артиллерийским и минометным прикрытием.
Штурму Кёнигсберга предшествовала мощная артподготовка, продлившаяся три часа. Наша 31-я гвардейская стрелковая дивизия наступала через предместье Понарт в направлении железнодорожного вокзала (через реку Прегель) и далее на цитадель. Успешным действиям стрелковых подразделений способствовали смелые и умелые действия наших артиллеристов. В боях за Кенигсберг отличились командиры 76-мм пушек сержанты А. Кукушкин, Ф. Немчинов и другие батарейцы, которые уничтожили артогнем много огневых точек противника и очагов его сопротивления. Справляться с управлением дивизиона в условиях боевых действий, происходивших в крупном городе, мне помогал штаб во главе с капитаном Мешковым.
Не теряя связи со штабом полка и подразделениями, мы следовали за наступавшими, невзирая на огневые налеты противника. Один из таких артналетов оказался роковым. Пали смертью героев артиллерийский разведчик Мякишев, радистка штаба, а капитан Мешков лишился глаза. Я со своим взводом управления несколько раз попадал в тяжелое положение. Но самыми критическими были нахождение дивизиона под артударом противника в районе товарной станции и при форсировании реки Прегель. Ранним утром 9 апреля, вслед за переправившимися батальонами, спешил со своими разведчиками через реку Прегель. Разведчики раздобыли оставленную кем-то на левом берегу изрешеченную осколками небольшую лодку, кое-как и кое-чем заделали пробоины, и мы приготовились к переправе на правый берег в районе Цитадели и королевского замка. Впереди нас, метрах в двухстах, следовал командир батареи 120-мм минометов стрелкового полка капитан Политухо со своим отделением управления. Но, внезапно, капитан был сражен пулей снайпера, укрывшегося в развалинах замка. Я принял новое решение - сначала произвести огневой налет гаубичной батареи по развалинам цитадели, только после этого форсировать реку. Наш огневой налет оказался точным. После него выстрелов из развалин больше не было. Таким путем, мы обеспечили себе успешное форсирование реки Прегель и дальнейшее огневое сопровождение завершающих наступательных действий стрелков. На следующий день, 10 апреля 1945 года, 130-тысячный гарнизон города-крепости Кенигсберг капитулировал.
Вперед, на Пиллау!
После Кенигсберга нам предстояло штурмовать город-крепость Пиллау. 16 апреля, построив свои боевые порядки в несколько эшелонов, 11-я гвардейская армия перешла в наступление. Однако в силу ряда объективных и субъективных причин, первые шесть дней наступления к большому успеху не привели. Более того, противник переходил в контрнаступление. 22 апреля я получил приказ - выставить для стрельбы прямой наводкой все орудия. При этом, не было принято во внимание и к сведению, что каждый квадратный метр в расположении наших войск просматривался и простреливался противником.
В результате огневого удара с немецких кораблей наибольший урон понесла наша гаубичная батарея, а огневой взвод старшего лейтенанта Червякова почти полностью был выведен из строя. Однако, начиная с 24 апреля, наступил перелом. После часовой артиллерийской подготовки, началось успешное продвижение в направлении Пиллау.
К вечеру части нашей дивизии овладели восемью траншеями противника и вышли к северной окраине крепости. Мой, 3-й артдивизион под командованием майора Синякова И.Х., огнем сопровождал стрелков. Но при очередном броске в атаку, управление батальона и артдивизиона подверглось внезапной атаке. Осколками снаряда был сражен командир стрелкового батальона, а я - тяжело ранен. Но, несмотря на это, наступление продолжалось. На следующий день гарнизон Пиллау капитулировал.
Воистину, не было таких крепостей, которые не могли бы взять гвардейцы! На следующий день дивизия форсировала пролив. Сражение с отчаянно сопротивляющимися гитлеровцами шло до 30 апреля. К этому времени дивизия, хотя и понесла большие потери, но и нанесла противнику еще больший урон. Гвардейцы с честью выполнили свой воинский долг, приблизили день нашей Победы над фашизмом.
Освобождал: Город Орша (июнь 1944 г.) в составе 3-го Белорусского фронта под командованием генерал-полковника И.Д. Черняховского, 31-й гвардейской Витебской стрелковой дивизии (командир дивизии - генерал-майор И.К. Щербина), 64-го гвардейского артполка (командир - подполковник И.С. Бурденко).
Город Борисов (июнь 1944 г.) (под командованием вышеназванных воинских начальников), город Витебск в то же время.
Город Молодечно&